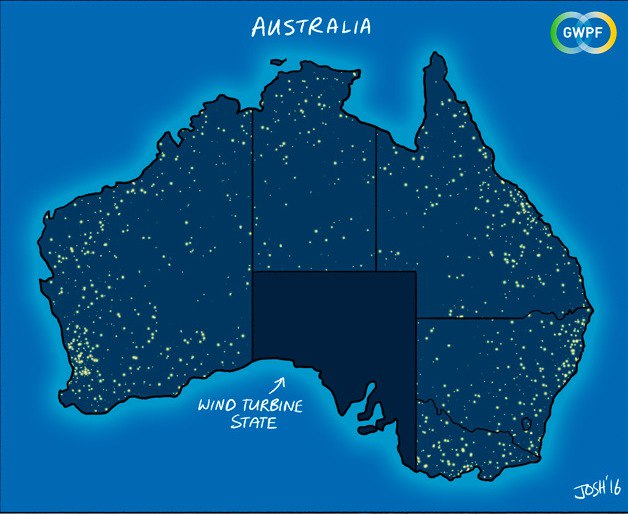Гендиректор ИПЕМ Юрий Саакян делает системные выводы по истории появления турбин в Крыму на страницах Forbes:
С применением механизма ДПМ в 2008-2016 годов было введено 22,3 ГВт мощностей, что составило более 61% от всех вводов за этот период. Государство получило выполнение планов (к слову, изначально сильно завышенных), инвесторы — выгоднейший механизм, исключающий предпринимательские риски, потребители — колоссальный рост цен на электроэнергию, а вот российские энергомашиностроители не получили практически ничего.
На российский рынок массово стали поставляться турбины крупнейших иностранных производителей — Siemens, General Electric, Alstom, Hitachi и других. При этом примечательно, что пришедшие зарубежные инвесторы покупали только импортное оборудование.
Российские аналоги либо отсутствовали, либо не выдерживали конкуренции по тем или иным причинам. Например, единственная российская газовая турбина высокой мощности — ГТД-110 — разрабатывалась еще в 90-е годы прошлого века. Однако все 5 построенных турбин ГТД-110 (4 были установлены на Ивановских ПГУ, еще 1 на Рязанской ГРЭС) в процессе опытной эксплуатации столкнулись с «детскими болезнями», свойственными любой, в том числе и зарубежной, технике, и все имевшиеся соглашения о дальнейших поставках были заморожены, ограничив, таким образом, возможность вывести уже готовый продукт в серию.
В результате доля вводов на базе основного оборудования отечественного производства резко сократилась. Например, без учета АЭС только за период 2008–2011 годов она снизилась с 95,6% до 30,8%.
Понимание возникшей проблемы приходило постепенно. Сначала на различных отраслевых площадках начал подниматься вопрос о невозможности проведения ремонта импортного оборудования без привлечения компаний-производителей, что не только увеличивало сроки и стоимость ремонта, но и ставило российскую энергетику в уязвимое положение. Определенный прорыв в осознании глубины проблемы наступил в конце 2014 года на фоне введения санкций и ослабления рубля. Уже в марте 2015 года Минпромторг России сформировал отраслевой план импортозамещения, в который вошли пункты и по газотурбинным технологиям. Но, по сути, было уже поздно — программа ДПМ близится к завершению, потребности в новых энергоблоках нет (перерезерв оценивается в десятки гигаватт), а значит и нет объема рынка, столь важного при локализации или выводе на рынок нового оборудования.
Несмотря на упущенное десятилетие, возможности для возрождения энергетического машиностроения в целом, и производства газовых турбин большой мощности (наиболее проблемного сегмента), в частности, еще существуют. Для этого должны быть определены соответствующая современным условиям стратегия развития отрасли, инструментарий поддержки спроса (механизм, который придет на смену ДПМ, каналы для продвижения российской продукции за рубежом), механизмы координации предприятий электроэнергетики и энергетического машиностроения. Главную сложность представляет относительно небольшой объем рынка в перспективе ближайших 10-15 лет, что предопределяет необходимость введения требований по унификации энергоблоков и сокращения номенклатурного ряда оборудования.
Стоит отметить и консолидационные тренды на мировом рынке машиностроения, которые делают конкурентную борьбу еще более сложной. Крупнейшие энергомашиностроительные холдинги General Electric и Siemens расширяются, поглощая, в том числе, конкурентов (например, обмен активами между GE и Alstom).
http://www.forbes.ru/biznes/348109-turbiny-dlya-kryma-kak-izbezhat-novyh-podozreniy