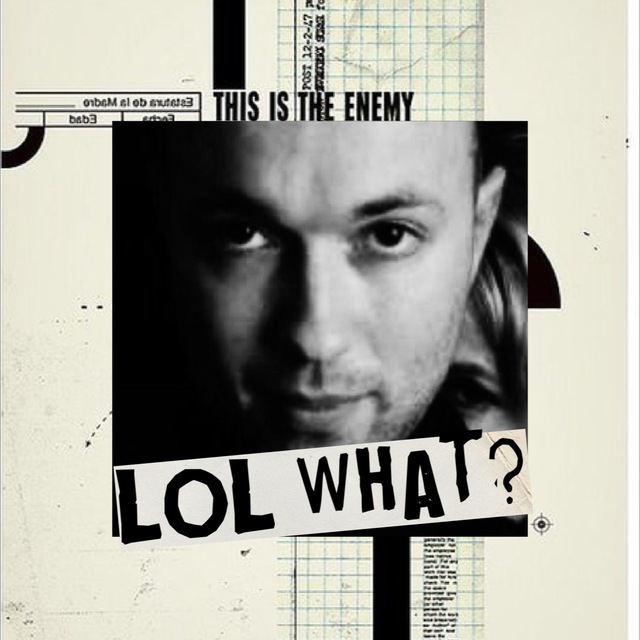Люди, мною встреченные, как правило, делились на две группы: на горячих почитателей Сергея Довлатова, и людей, к нему совершенно равнодушных. Не встречал еще никого, кто бы его ненавидел.
Я - из вторых. И меня удивляло всегда то, что люди из первой группы, группы страстных почитателей, умеют находить в его текстах какие-то адовы глубины и бездны смыслов, которых я в упор не вижу. Побеседовав с Принцессой, которая не видит тоже, пришли к выводу, что с реалиями Довлатова и его героев у нас просто нет ничего общего- оттого и "не цепляет". А вот другие, которые, "цепляются" за описание знакомого с детства дома, типажа, за ситуацию из их интеллигентского житья-бытья (Довлатов, сколько бы он ни служил в ВОХРе, никогда по-настоящему не выходил за пределы совинтелского кокона)- они горячо любят его книги, и находят там какие-то литературные тонкости и стилистические откровения. На том бы и успокоились- но вот напомнила лента про другого писателя со схожим творческим методом— про Лимонова.
С Лимоновым у меня все совершенно иначе, Лимонов меня крепко "зацепил" в 2004, когда я шлялся по Берлину, совершенно без денег и без перспектив, злобно зыркал на окружающий нарядный мир и соединял в голове какие-то строчки. Я читал его в библиотеке кафедры славистики университета Гумбольдта, куда можно было бесплатно ходить, и где, кстати, было не так холодно в ноябре-декабре, как на улице. И я до сих пор благодарен Эдуарду Вениаминовичу за то чувство, что мне давал его Эдичка- чувство, что все, что происходит сейчас со мной, уже с кем-то было, и даже стало литературой- и что если у одного получилось из этого комка страдания, любви, ненависти, чувства острой несправедливости, желания выпрыгнуть из себя в далекое небо Нью-Йорка ли, Берлина ли- словом, раз смог он из этого материала выковать книгу, то, наверное, смогу и я.
И вот сегодня, вспоминая все это, я понял, почему тогда, в библиотеке института Гумбольдта, я брал с полки Лимонова, а не Довлатова, который (мы с Принцессой малость ошиблись) описывал, среди прочего, ту же ситуацию, эмиграцию, и тоже как бы мог быть "про меня". Но не было.
Мы, те кто в юности читал "Палача" и "Смерть Современных Героев", а не "Зону" и "Чемодан"- мы существуем иначе.
Мы рыскаем по незнакомым городам не в поисках забавных ситуаций, над которыми потом добродушно посмеется интеллигентный читатель. Мы ищем пружины, которые двигают этим городом, этой страной, этим миром. Заходя в незнакомый лифт, мы не ждем, что его двери откроются на этаже, где живет эмигрантка Муся и ее попугай, который откликается на клички "Пос, Мьюдилло, Стари Джопа". В темный лифт может, как в «Истории его Слуги», зайти девушка, и все случится, пока он дойдет с первого этажа до последнего— и никто из вас так и не увидит лиц друг друга. Может войти политик, или воротила подземных империй— и между делом рассказать что-то, отчего ты выйдешь из того же лифта уже совершенно другим человеком. Может, наконец, зайти террорист, обвязанный пластидом. И тут уж один Бог знает, что случится на этом пути— из первозданной тьмы лифтовой шахты— вверх, к последнему, ослепительному Illumination.
С этим чувством мы жили и живем дальше.