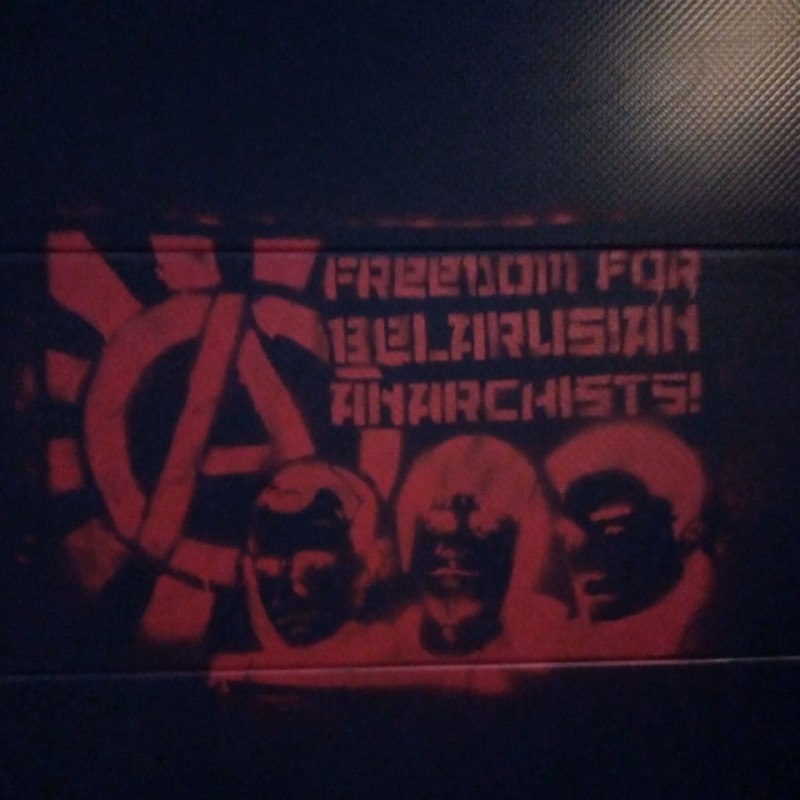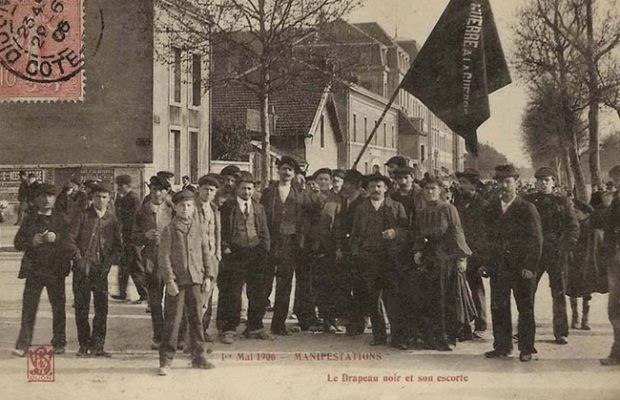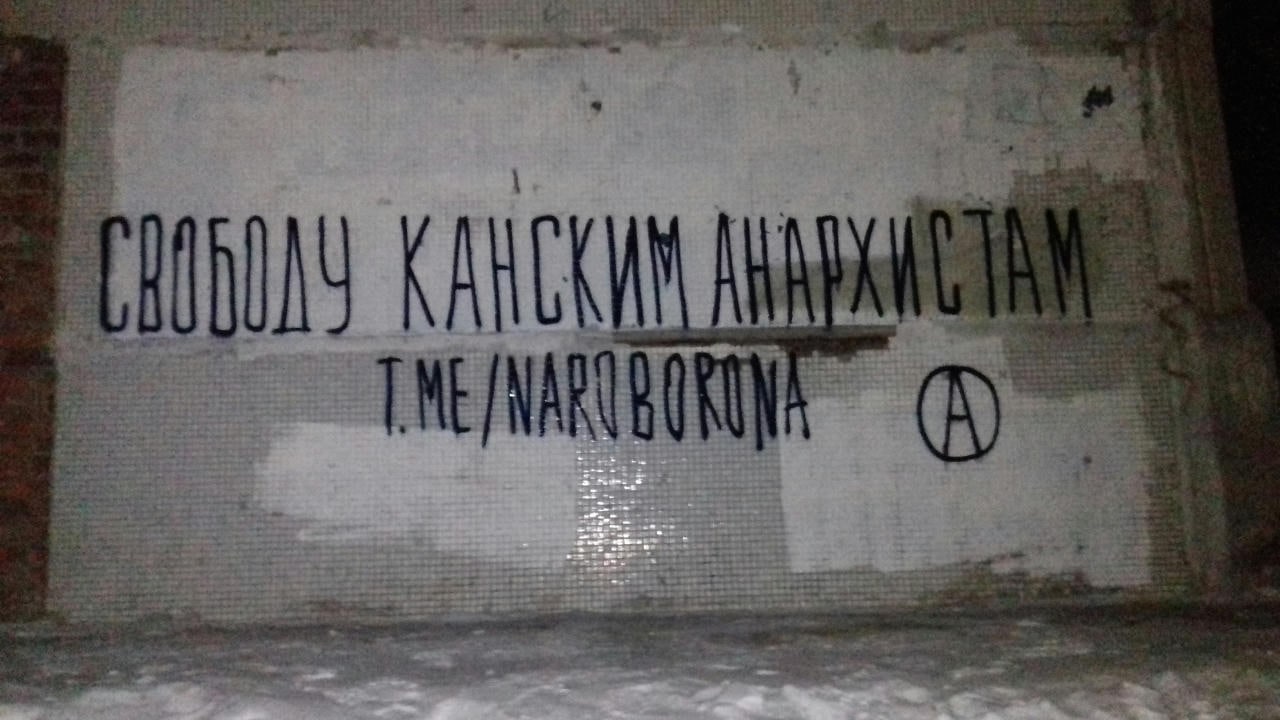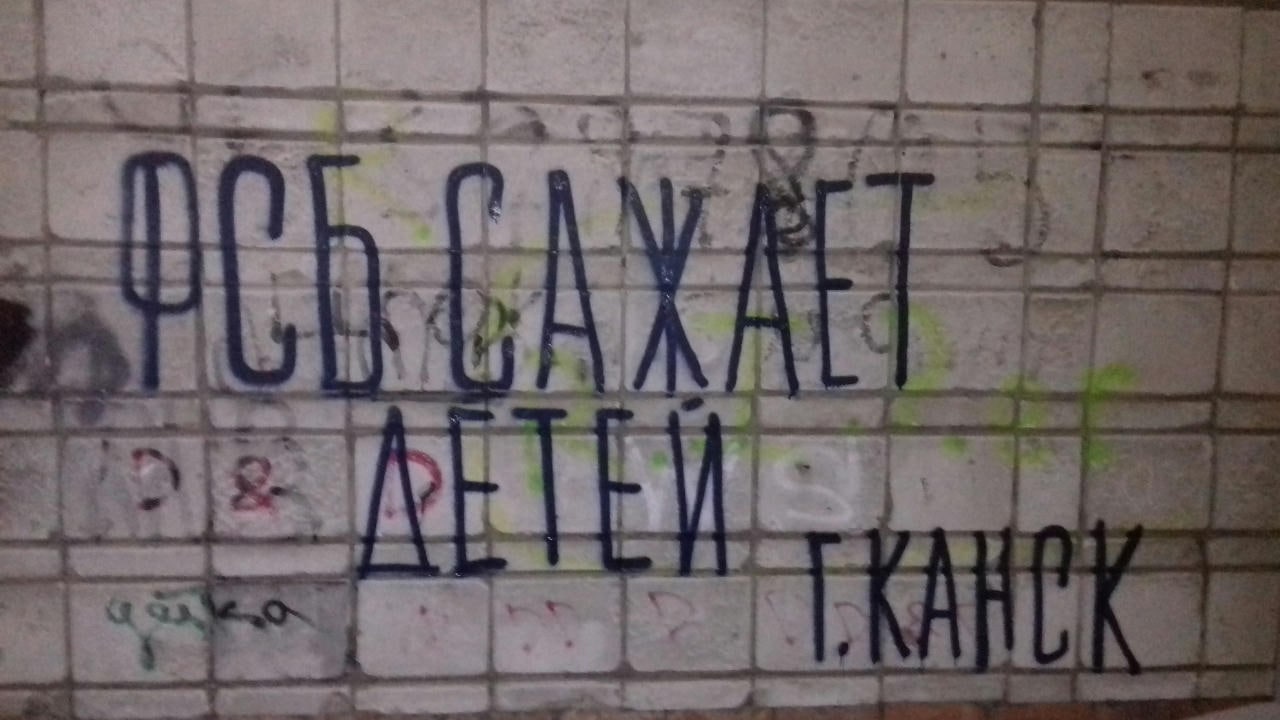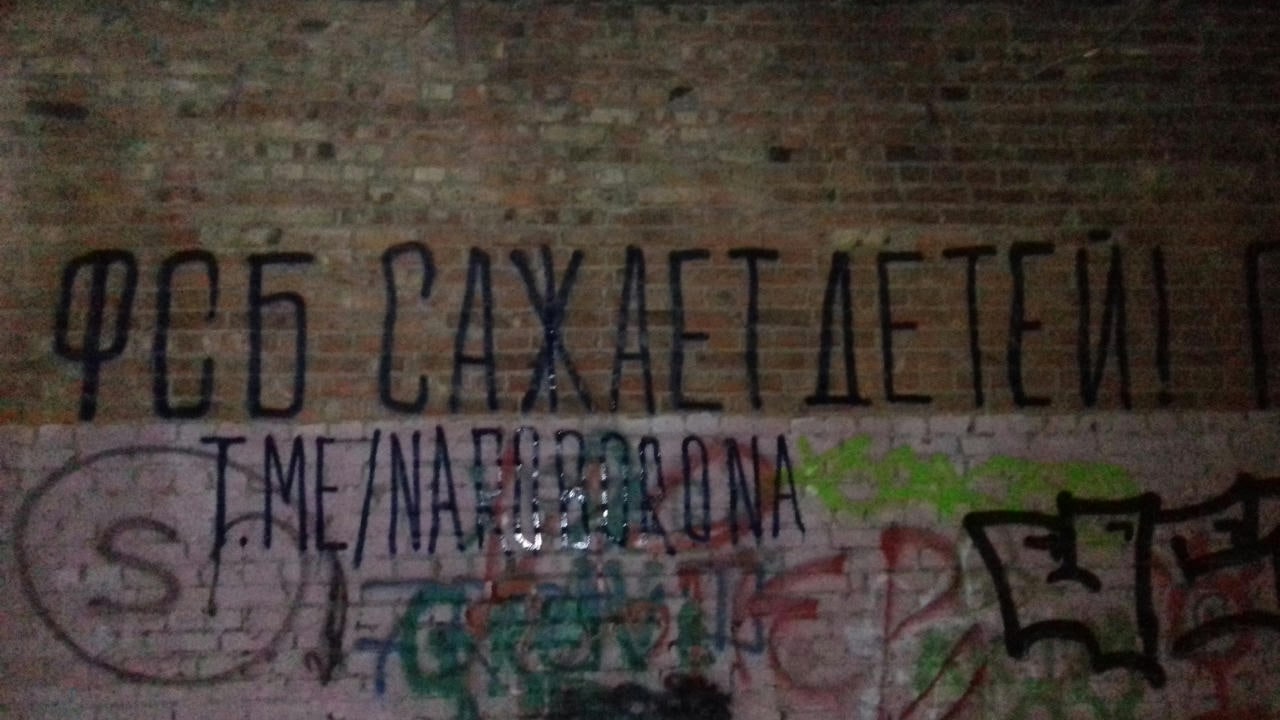Некоторые анархистские ресурсы публикуют письмо Дмитрия Дубовского о том, почему он дал показания против своих товарищей. Напомним, сразу после задержания «беларуских партизан» Дубовский дал исчерпывающие показания о том, кто в каких действиях принимал участие, кто выполнял какие роли, и тд. Показания он дал не только на себя, но и на всех товарищей.
В письме он, в частности, оправдывает себя тем, что:
1) Когда он давал показания на своих товарищей, он не хотел давать их на камеру. И эти показания «в нормальной стране не показали бы по телевизору». То есть здесь он переживает не о том, что дал показания на товарищей, но о том, что это стало достоянием общественности.
2) Все они договорились признавать участие в сопротивлении и ничего не отрицать. Однако, только лишь Дубовский дал показания на товарищей, никто другой этого не сделал. Игорь Олиневич давал показания лишь на самого себя. Резанович и Романов отказались свидетельствовать даже против самих себя. Дубовский же дал показания против них.
3) «Под тяжестью улик всё равно пришлось бы признаться», они бы итак всё узнали. Это — пустая, ничем не подкрепленная отговорка. Абсолютно в любом деле можно сказать «они итак бы всё узнали» и дать показания. Однако, люди этого, почему-то, не делают. Как не делают и товарищи Дубовского.
4) «Лучше вписаться в историю как борец с режимом, а не как невинная жертва». Вряд-ли исчерпывающие показания против своих товарищей оставят человека в истории «борцом с режимом». Обычно, люди, дающие такие показания, входят в историю как стукачи. Для того, чтобы вписаться «борцом с режимом», не обязательно давать показания против своих товарищей. Можно вспомнить, например, дело Азата Мифтахова, который не признал ни свою вину, ни дал показания на других людей, но занял бескомпромиссную позицию и заявил о своих идеалах и участии в анархистском движении.
5) Аргумент о том, что товарищи Дубовского его оправдают, также никоим образом не подходит. Даже если его товарищи простят ему дачу показаний, то, во первых, каждый способен сам принимать решение о поступке Дубовского, о том, насколько он этичен, и насколько приемлемо оказывать солидарность по отношению к нему. А, во вторых, это касается даже не столько Дубовского и его товарищей, сколько анархистов в целом. Будем ли мы считать, что давать показания на товарищей — это нормально? Или мы постараемся сделать это недопустимым в анархистских кругах?
6) Аргумент о том, что Дубовского какие-то люди давно знают и он их хороший друг, может сказать лишь о том, что его друзья оценивают поступки не по их содержанию, но по тому, кто их совершает. То есть, говоря проще, «своим» стучать можно, «чужим» нет.
7) Аргумент его товарищей о том, что Дубовский уже давно участвует в движении, никак не оправдывает его поведения, но наоборот. Неопытного человека может оправдать его неопытность. Опытность опытного человека же не служит оправданием ошибки, но лишь усугубляет её. Значит, речь идёт о сознательном решении. О чём прямо говорит и сам Дубовский. В своём письме он не раскаивается, не признаёт ошибки, но лишь объясняет, почему дать показания на товарищей - это нормально. Видимо, опыт Дубовскому впрок не пошёл.
Письмо Дубовского, таким образом, никак не опровергает обвинений в даче показаний, но лишь подтверждает их.