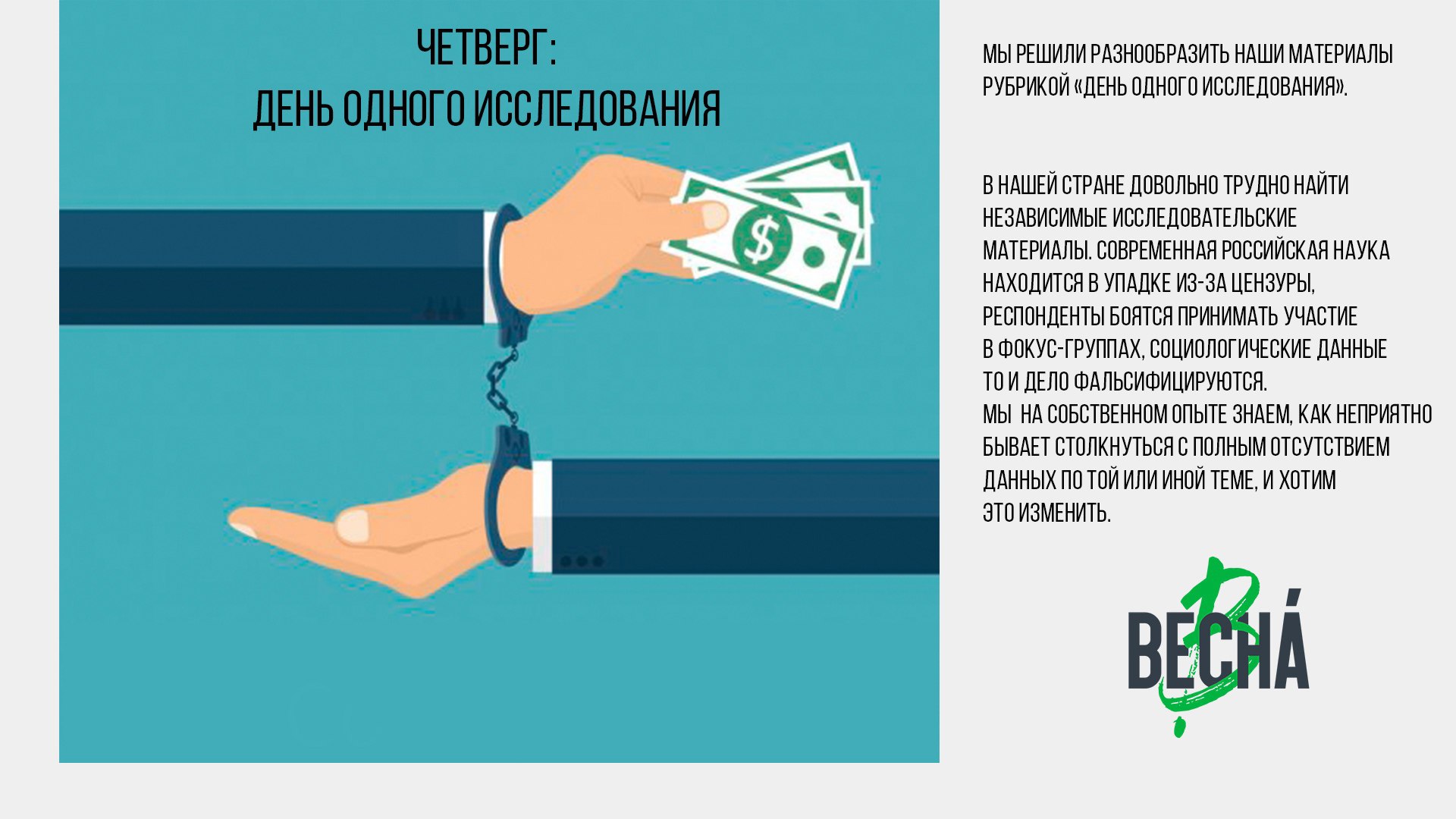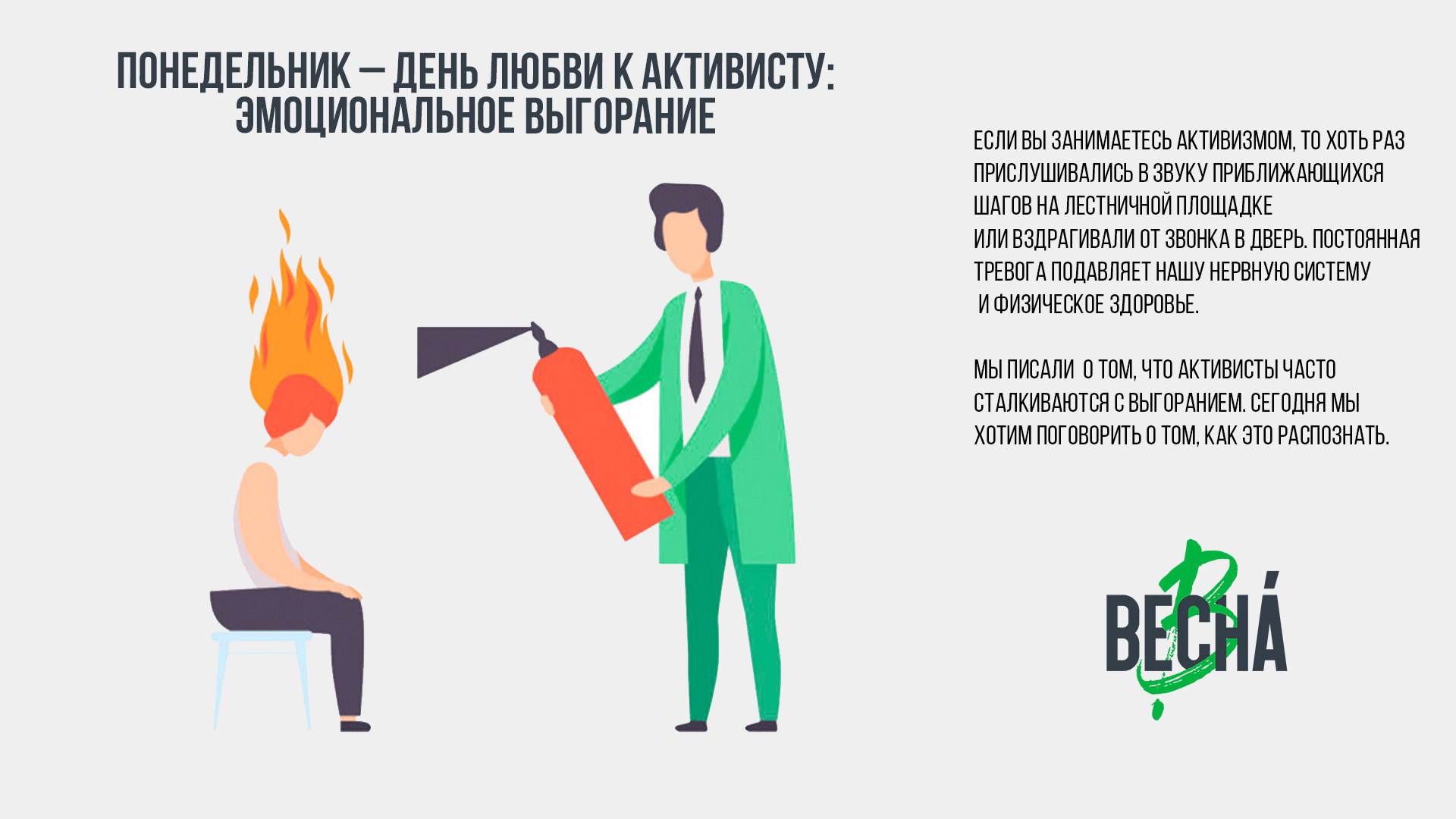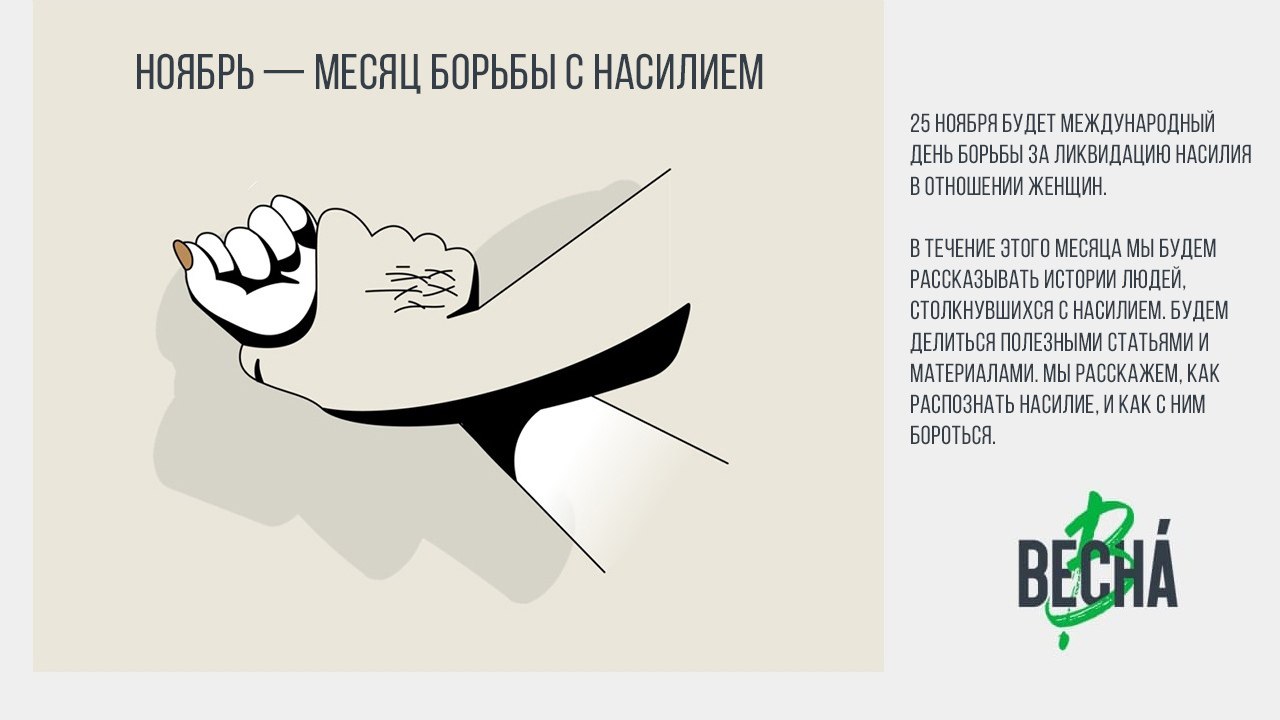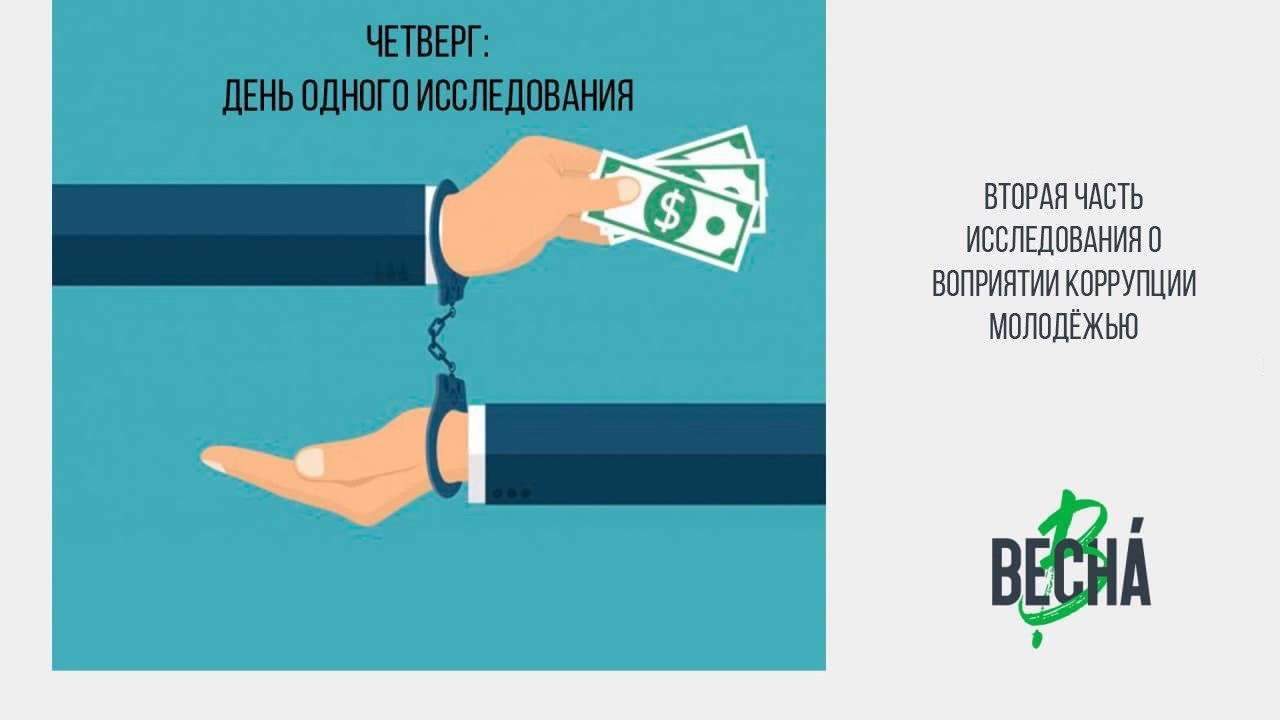Size: a a a
2021 October 27

Сегодня в 15:00 судья Октябрьского районного суда рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста одному из лидеров петербургской оппозиции и уже экс-депутату Законодательного собрания Максиму Резнику.

⚡️Задержан координатор петербургской «Весны» Валентин Хорошенин
Он вместе с другими активистами проводил пикеты в поддержку осуждённого по «дорожному делу» Глеба Марьясова и в поддержку бара «Фогель». Валентину вменяют 8.6.1 КоАП, то есть нарушение антиковидных ограничений.
Он вместе с другими активистами проводил пикеты в поддержку осуждённого по «дорожному делу» Глеба Марьясова и в поддержку бара «Фогель». Валентину вменяют 8.6.1 КоАП, то есть нарушение антиковидных ограничений.
2021 October 28

Архитектурная среда
Мы решили запустить рубрику «Архитектурная среда», в которой будем знакомить вас с новостями архитектуры и урбанистики, рассказывать о советских и российских архитекторах, инженерах и дизайнерах, об актуальных проблемах градостроительства и о многом другом. Поддержите нас лайком и оставьте комментарий, это поможет продвижению наших материалов!
Первое, о чём мы хотим рассказать, это причины, по которым нынешнее жильё не соответствует тем историческим обстоятельствам, в которых мы оказались. В период нового локдауна мы будем больше времени проводить дома, а это прямое столкновение со средой и дизайном.
Подавляющая часть домов, в которых мы с вами живём, изначально не была предназначена для удалённой работы, да и вообще длительного времяпрепровождения в квартире.
Эти дома остались нам в наследство от большой советской стройки. Различные «сталинки» — блочные, кирпичные, панельные. Часто встречаются «хрущёвки», более современные им «чешки». «Брежневки», которые возводились аж до 2000-х. «Пентагоны», среди которых мы теряемся в собственных дворах уже много лет. Давно знакомы нам и знаменитые своими аляповатыми лоджиями «пэшки» — дома серии П-44. Ну и конечно «путинки» — главные наследники всего худшего, что было в советском строительстве. По сравнению с ними, типовое жильё прошлого поколения кажется очень просторным, так как средняя площадь «путинок» всего 10 квадратных метров при совмещённом санузле площадью 2 квадратных метра и отсутствии балкона.
Но давайте разберёмся, что общего между собой имеют эти серии типовых зданий?
Для это нам потребуется заглянуть в 1920-е. По истине золотое время советской архитектуры и становления идей конструктивизма.
В эти годы Моисей Гинзбург пишет книгу «Жилище», которая стала по-настоящему знаковой для советской архитектуры, а сам архитектор впоследствии становится одержим конструктивизмом и в его рамках создаёт такие знаковые для советского строительства дома, как дом Наркомфина, санаторий Наркомтяжпрома, проекты Дворца труда, Дома текстилей, дома Русгерторга, Дома Советов в Махачкале, Дома правительства в Алма-Ате и многие другие. Гинзбург был чрезвычайно плодовит и как публицист, издавая журнал «Современная архитектура» вместе со своим не менее именитым соратником Александром Весниным.
Труд «Жилище» и последующие проекты архитектора были вдохновлены его знакомством и перепиской с легендой мира архитектуры Ле Корбузье. Корбузье был в восторге от того, как быстро советские зодчие подхватывали его идеи и развивали их.
Он любил Москву и здесь под его руководством было построено несколько зданий, наиболее известное из них — Здание Центрпромсоюза, во дворе которого можно увидеть памятник великому архитектору.
Всё, что создавалось конструктивистами, всё, что было написано в «Жилище», манифестировало одну простую (на деле не очень простую) идею о том, что «Дом — это машина для жилья».
Идеологи нового быта пытались выдавить человека из дома: общественные пространства должны были быть как можно больше, а индивидуальные квартиры, по «Жилищу» ячейки, — как можно меньше.
В некоторых проектах были предприняты попытки «освободить женщину от кухонного рабства» и исключить из обихода кухни, которые должны были быть заменены на столовые в отдельных пристройках зданий.
Функциональность лежала в основе всего. В некоторых домах, например в доме Наркомфина, даже несущие колонны прятали за собой каналы канализации. Минимальные пространства в типовых ванных, воссозданных по проектам уже знакомого нам Корбузье, особая минималистичная фурнитура, спроектированная специально для домов нового типа, ленточные окна — всё это должно было помочь человеку стать частью большого механизма под названием городская среда.
Довольно быстро инновационные идеи конструктивистов были отвергнуты, так как казались партии «слишком интернациональными». На основе ещё сырых идей минимального пространства и функционализма, заложенных конструктивистами, выросли не слишком удобные и не слишком качественные, зато дешёвые в строительстве здания, в которых мы живём сегодня.
Мы решили запустить рубрику «Архитектурная среда», в которой будем знакомить вас с новостями архитектуры и урбанистики, рассказывать о советских и российских архитекторах, инженерах и дизайнерах, об актуальных проблемах градостроительства и о многом другом. Поддержите нас лайком и оставьте комментарий, это поможет продвижению наших материалов!
Первое, о чём мы хотим рассказать, это причины, по которым нынешнее жильё не соответствует тем историческим обстоятельствам, в которых мы оказались. В период нового локдауна мы будем больше времени проводить дома, а это прямое столкновение со средой и дизайном.
Подавляющая часть домов, в которых мы с вами живём, изначально не была предназначена для удалённой работы, да и вообще длительного времяпрепровождения в квартире.
Эти дома остались нам в наследство от большой советской стройки. Различные «сталинки» — блочные, кирпичные, панельные. Часто встречаются «хрущёвки», более современные им «чешки». «Брежневки», которые возводились аж до 2000-х. «Пентагоны», среди которых мы теряемся в собственных дворах уже много лет. Давно знакомы нам и знаменитые своими аляповатыми лоджиями «пэшки» — дома серии П-44. Ну и конечно «путинки» — главные наследники всего худшего, что было в советском строительстве. По сравнению с ними, типовое жильё прошлого поколения кажется очень просторным, так как средняя площадь «путинок» всего 10 квадратных метров при совмещённом санузле площадью 2 квадратных метра и отсутствии балкона.
Но давайте разберёмся, что общего между собой имеют эти серии типовых зданий?
Для это нам потребуется заглянуть в 1920-е. По истине золотое время советской архитектуры и становления идей конструктивизма.
В эти годы Моисей Гинзбург пишет книгу «Жилище», которая стала по-настоящему знаковой для советской архитектуры, а сам архитектор впоследствии становится одержим конструктивизмом и в его рамках создаёт такие знаковые для советского строительства дома, как дом Наркомфина, санаторий Наркомтяжпрома, проекты Дворца труда, Дома текстилей, дома Русгерторга, Дома Советов в Махачкале, Дома правительства в Алма-Ате и многие другие. Гинзбург был чрезвычайно плодовит и как публицист, издавая журнал «Современная архитектура» вместе со своим не менее именитым соратником Александром Весниным.
Труд «Жилище» и последующие проекты архитектора были вдохновлены его знакомством и перепиской с легендой мира архитектуры Ле Корбузье. Корбузье был в восторге от того, как быстро советские зодчие подхватывали его идеи и развивали их.
Он любил Москву и здесь под его руководством было построено несколько зданий, наиболее известное из них — Здание Центрпромсоюза, во дворе которого можно увидеть памятник великому архитектору.
Всё, что создавалось конструктивистами, всё, что было написано в «Жилище», манифестировало одну простую (на деле не очень простую) идею о том, что «Дом — это машина для жилья».
Идеологи нового быта пытались выдавить человека из дома: общественные пространства должны были быть как можно больше, а индивидуальные квартиры, по «Жилищу» ячейки, — как можно меньше.
В некоторых проектах были предприняты попытки «освободить женщину от кухонного рабства» и исключить из обихода кухни, которые должны были быть заменены на столовые в отдельных пристройках зданий.
Функциональность лежала в основе всего. В некоторых домах, например в доме Наркомфина, даже несущие колонны прятали за собой каналы канализации. Минимальные пространства в типовых ванных, воссозданных по проектам уже знакомого нам Корбузье, особая минималистичная фурнитура, спроектированная специально для домов нового типа, ленточные окна — всё это должно было помочь человеку стать частью большого механизма под названием городская среда.
Довольно быстро инновационные идеи конструктивистов были отвергнуты, так как казались партии «слишком интернациональными». На основе ещё сырых идей минимального пространства и функционализма, заложенных конструктивистами, выросли не слишком удобные и не слишком качественные, зато дешёвые в строительстве здания, в которых мы живём сегодня.


Единое заявление политических сил Санкт-Петербурга с требованием о прекращении пыток в тюрьмах
Петербургская «Весна» вместе с другими оппозиционными движениями Санкт-Петербурга выступает с обращением к правительству.
Материалы, недавно опубликованные Gulagu.net, повергли в шок всю страну, но, судя по всему, никак не её руководство.
Мы против пыток в колониях, требуем отставки руководства ФСИН и проведения парламентского расследования случившегося.
Полное заявление можно прочитать здесь.
Петербургская «Весна» вместе с другими оппозиционными движениями Санкт-Петербурга выступает с обращением к правительству.
Материалы, недавно опубликованные Gulagu.net, повергли в шок всю страну, но, судя по всему, никак не её руководство.
Мы против пыток в колониях, требуем отставки руководства ФСИН и проведения парламентского расследования случившегося.
Полное заявление можно прочитать здесь.

Четверг: день одного исследования
Мы решили разнообразить наши материалы рубрикой «День одного исследования». Каждый четверг мы переводим для вас одно независимое исследование, анализируем данные и делаем собственные выводы на их основе.
Почему мы считаем, что эта рубрика может быть полезна вам?
Дело в том, что в нашей стране довольно трудно найти независимые исследовательские материалы. Современная российская наука находится в упадке из-за цензуры, респонденты боятся принимать участие в фокус-группах, социологические данные то и дело фальсифицируются. Мы и сами часто сталкиваемся с полным отсутствием данных по той или иной теме, когда хотим подготовить для вас очередной материал. Это касается всего, начиная от коронавируса и заканчивая данными о домашнем насилии. Мы хотим, чтобы достоверная информация хоть иногда просачивалась в нашу повседневность, так как очень устали от цензуры.
К сожалению, мы не можем распространять материалы организаций, признанных иностранными агентами, однако надеемся на то, что читатели проявят интерес к нашим материалам и захотят самостоятельно найти все источники представленной нами информации и вдумчиво изучить данные, отраженные в наших публикациях. А если вы хотите изменить сложившуюся ситуацию, то подпишите петицию против закона об иноагентах! Давайте вместе стремиться к свободе распространения объективных исследований!
Очень надеемся, что вам понравится наш новый формат. Пожалуйста, поддержите наши материалы лайком, репостом и комментарием, чтобы о нашей работе узнало большее количество людей.
Сегодня мы хотим поднять тему отношения молодёжи к коррупции в современной России. Мы задались вопросом, действительно ли современная российская молодёжь разделяет наши взгляды на политику? Так ли малочисленна оппозиция, как принято об этом говорить? Почему молодёжь не стремится активно отстаивать свои взгляды и часто говорит о своей аполитичности.
Мы решили рассмотреть так называемое «поколение Z», которое часто называют «путинским поколением», имея ввиду людей, родившихся на рубеже 2000-х и выросших в период президенства Владимира Путина. Это поколение особенно интересно в связи с тем, что социализация этих людей происходила на фоне становления авторитаризма в России.
Пока эти люди взрослели, взрослел и режим, становясь все более закрытым для самовыражения. Мы решили, что это не могло не повлиять на них, но исследований на эту тему не слишком много. Одно из них было проведено в рамках молодёжных летних школ «Трансперенси интернэшнл»* и Фонда Гайдара при поддержке Университета Джорджа Вашингтона.
Исследование проводилось в трёх городах России: в Санкт-Петербурге, Казани и Ростове-на-Дону. В нём участвовали студенты университетов в возрасте от 18 до 23 лет, изучающие право, экономику или инженерное дело. Таким образом, наши респонденты представляют собой молодых специалистов, которые в ближайшем будущем будут формировать российскую бизнес-культуру.
Исследователи провели девять фокус-групп, по три в каждом городе. Обсуждения включали вопросы об осведомлённости учащихся о масштабах и последствиях коррупции в России.
Важно отметить, что в группы были включены не только самые продвинутые и активные студенты, которым свойственно смело выражать своё мнение и отстаивать свою позицию, но и «студенты с задних парт». Это нужно для того, чтобы исследование отражало мнение не только активного меньшинства, как это часто бывает с добровольной вербовкой, но и мнение так называемого «молчаливого» большинства, взгляды которого часто не совпадают со взглядами активистов.
Ждите продолжения этого материала в следующий четверг!
Мы решили разнообразить наши материалы рубрикой «День одного исследования». Каждый четверг мы переводим для вас одно независимое исследование, анализируем данные и делаем собственные выводы на их основе.
Почему мы считаем, что эта рубрика может быть полезна вам?
Дело в том, что в нашей стране довольно трудно найти независимые исследовательские материалы. Современная российская наука находится в упадке из-за цензуры, респонденты боятся принимать участие в фокус-группах, социологические данные то и дело фальсифицируются. Мы и сами часто сталкиваемся с полным отсутствием данных по той или иной теме, когда хотим подготовить для вас очередной материал. Это касается всего, начиная от коронавируса и заканчивая данными о домашнем насилии. Мы хотим, чтобы достоверная информация хоть иногда просачивалась в нашу повседневность, так как очень устали от цензуры.
К сожалению, мы не можем распространять материалы организаций, признанных иностранными агентами, однако надеемся на то, что читатели проявят интерес к нашим материалам и захотят самостоятельно найти все источники представленной нами информации и вдумчиво изучить данные, отраженные в наших публикациях. А если вы хотите изменить сложившуюся ситуацию, то подпишите петицию против закона об иноагентах! Давайте вместе стремиться к свободе распространения объективных исследований!
Очень надеемся, что вам понравится наш новый формат. Пожалуйста, поддержите наши материалы лайком, репостом и комментарием, чтобы о нашей работе узнало большее количество людей.
Сегодня мы хотим поднять тему отношения молодёжи к коррупции в современной России. Мы задались вопросом, действительно ли современная российская молодёжь разделяет наши взгляды на политику? Так ли малочисленна оппозиция, как принято об этом говорить? Почему молодёжь не стремится активно отстаивать свои взгляды и часто говорит о своей аполитичности.
Мы решили рассмотреть так называемое «поколение Z», которое часто называют «путинским поколением», имея ввиду людей, родившихся на рубеже 2000-х и выросших в период президенства Владимира Путина. Это поколение особенно интересно в связи с тем, что социализация этих людей происходила на фоне становления авторитаризма в России.
Пока эти люди взрослели, взрослел и режим, становясь все более закрытым для самовыражения. Мы решили, что это не могло не повлиять на них, но исследований на эту тему не слишком много. Одно из них было проведено в рамках молодёжных летних школ «Трансперенси интернэшнл»* и Фонда Гайдара при поддержке Университета Джорджа Вашингтона.
Исследование проводилось в трёх городах России: в Санкт-Петербурге, Казани и Ростове-на-Дону. В нём участвовали студенты университетов в возрасте от 18 до 23 лет, изучающие право, экономику или инженерное дело. Таким образом, наши респонденты представляют собой молодых специалистов, которые в ближайшем будущем будут формировать российскую бизнес-культуру.
Исследователи провели девять фокус-групп, по три в каждом городе. Обсуждения включали вопросы об осведомлённости учащихся о масштабах и последствиях коррупции в России.
Важно отметить, что в группы были включены не только самые продвинутые и активные студенты, которым свойственно смело выражать своё мнение и отстаивать свою позицию, но и «студенты с задних парт». Это нужно для того, чтобы исследование отражало мнение не только активного меньшинства, как это часто бывает с добровольной вербовкой, но и мнение так называемого «молчаливого» большинства, взгляды которого часто не совпадают со взглядами активистов.
Ждите продолжения этого материала в следующий четверг!
2021 November 01

Понедельник — день любви к активисту: эмоциональное выгорание
Ежедневно активисты подвергаются эмоциональному, иногда физическому и даже финансовому насилию со стороны государства. Это насилие измеряется не только в миллионных исках, дискриминации и пытках, но также в отказе в удовлетворении базовой потребности в безопасности.
Если вы занимаетесь активизмом, то хоть раз прислушивались к звуку приближающихся шагов на лестничной площадке или вздрагивали от звонка в дверь. Постоянная тревога подавляет нашу нервную систему и физическое здоровье.
Неделю назад «Весна» писала о том, что активисты часто сталкиваются с выгоранием. Сегодня мы хотим поговорить о том, как его распознать.
Подробнее в новом материале «Весны».
Ежедневно активисты подвергаются эмоциональному, иногда физическому и даже финансовому насилию со стороны государства. Это насилие измеряется не только в миллионных исках, дискриминации и пытках, но также в отказе в удовлетворении базовой потребности в безопасности.
Если вы занимаетесь активизмом, то хоть раз прислушивались к звуку приближающихся шагов на лестничной площадке или вздрагивали от звонка в дверь. Постоянная тревога подавляет нашу нервную систему и физическое здоровье.
Неделю назад «Весна» писала о том, что активисты часто сталкиваются с выгоранием. Сегодня мы хотим поговорить о том, как его распознать.
Подробнее в новом материале «Весны».
2021 November 02


Вторник — день информирования о коронавирусе
На протяжении последних недель в новостных заголовках мы стабильно видим «побит новый антирекорд по количеству заражений». Или по количеству погибших.
Только по официальной статистике за последнюю неделю коронавирусом заразились около 300 тысяч человек, а количество смертей составляет около 8 тысяч. Но так ли правдива официальная статистика?
Подробнее читайте в материале «Весны».
На протяжении последних недель в новостных заголовках мы стабильно видим «побит новый антирекорд по количеству заражений». Или по количеству погибших.
Только по официальной статистике за последнюю неделю коронавирусом заразились около 300 тысяч человек, а количество смертей составляет около 8 тысяч. Но так ли правдива официальная статистика?
Подробнее читайте в материале «Весны».
2021 November 03

Фигуранты «Ростовского дела» вышли на свободу
В 2017 году на Яна Сидорова и Влада Мордасова завели уголовное дело за якобы покушение на организацию массовых беспорядков. Хотя в реальности они всего лишь вышли в мирный пикет на площади. В сентябре суд приговорил их к шести с половиной годам колонии строгого режима.
2 года назад мы с вами выходили в пикеты в поддержку ребят и приглашали вас принять участие в мероприятиях инициативной группы «Ростовское дело».
Эта история не закончится, пока ребята не будут реабилитированы как политические заключённые.
В 2017 году на Яна Сидорова и Влада Мордасова завели уголовное дело за якобы покушение на организацию массовых беспорядков. Хотя в реальности они всего лишь вышли в мирный пикет на площади. В сентябре суд приговорил их к шести с половиной годам колонии строгого режима.
2 года назад мы с вами выходили в пикеты в поддержку ребят и приглашали вас принять участие в мероприятиях инициативной группы «Ростовское дело».
Эта история не закончится, пока ребята не будут реабилитированы как политические заключённые.

Архитектурная среда
Неделю назад мы рассказывали о том, что дома, в которых мы сейчас оказались заперты, фактически не приспособлены для долгого пребывания в них. Ведь целью строительства жилых зданий было минимизировать время присутствия в них жильцов.
Сегодня мы хотели бы рассказать о проектах, на которые COVID-19 вдохновил проектировщиков и дизайнеров по всему миру. Их основная тема — социальная дистанция.
Мы будем продолжать делиться с вами интересными материалами об архитектуре и урбанистике. Поддержите нас лайком и оставьте комментарий, это поможет продвижению!
Неделю назад мы рассказывали о том, что дома, в которых мы сейчас оказались заперты, фактически не приспособлены для долгого пребывания в них. Ведь целью строительства жилых зданий было минимизировать время присутствия в них жильцов.
Сегодня мы хотели бы рассказать о проектах, на которые COVID-19 вдохновил проектировщиков и дизайнеров по всему миру. Их основная тема — социальная дистанция.
Мы будем продолжать делиться с вами интересными материалами об архитектуре и урбанистике. Поддержите нас лайком и оставьте комментарий, это поможет продвижению!

Ноябрь — месяц борьбы с насилием
25 ноября будет Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
В течение этого месяца мы будем рассказывать истории людей, столкнувшихся с насилием. Будем делиться полезными статьями и материалами. Мы расскажем, как распознать насилие, и как с ним бороться.
Это новый проект «Весны», подробности можно узнать здесь!
25 ноября будет Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
В течение этого месяца мы будем рассказывать истории людей, столкнувшихся с насилием. Будем делиться полезными статьями и материалами. Мы расскажем, как распознать насилие, и как с ним бороться.
Это новый проект «Весны», подробности можно узнать здесь!
2021 November 04

Четверг — день одного исследования
Вторая часть материала о восприятии коррупции молодёжью, первую часть можно найти здесь.
Объектом исследования является так называемое поколение Z, молодые люди, родившиеся на рубеже 2000-х и выросшие во время президентства Владимира Путина. Русское поколение Z особенно интересно, поскольку ранняя социализация и взросление этих людей происходили на фоне становления авторитарного режима в стране и быстрого роста коррупции.
Исследование проводилось в трёх городах России: Санкт-Петербург, Казань и Ростов-на-Дону. В нём участвовали студенты университетов в возрасте от 18 до 23 лет, изучающие право, экономику или инженерное дело.
О результатах исследования читайте в материале «Весны».
Вторая часть материала о восприятии коррупции молодёжью, первую часть можно найти здесь.
Объектом исследования является так называемое поколение Z, молодые люди, родившиеся на рубеже 2000-х и выросшие во время президентства Владимира Путина. Русское поколение Z особенно интересно, поскольку ранняя социализация и взросление этих людей происходили на фоне становления авторитарного режима в стране и быстрого роста коррупции.
Исследование проводилось в трёх городах России: Санкт-Петербург, Казань и Ростов-на-Дону. В нём участвовали студенты университетов в возрасте от 18 до 23 лет, изучающие право, экономику или инженерное дело.
О результатах исследования читайте в материале «Весны».


Семьдесят один год Европейской конвенции по правам человека!
4 ноября 1950 года в Риме была подписана конвенция, породившая Совет Европы и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
И хотя Россия ратифицировала конвенцию в марте 1998 года, закреплённые в ней права регулярно нарушаются, к примеру, право на свободу собраний, слова и справедливое судебное разбирательство. Часто граждане даже вынуждены искать справедливость в Европейском суде по правам человека.
К сожалению, далеко не все решения ЕСПЧ в нашей стране в итоге исполняются (особенно если вы Алексей Навальный), однако, благодаря конвенции в нашей стране, например, введён мораторий на смертную казнь.
Увы, этого лишены наши соседи из Беларуси. Когда наша страна ратифицировала конвенцию, у них уже был установлен режим Лукашенко, в котором нет места правам человека.
Европейская конвенция по правам человека — это один из важнейших документов нашего времени. Мы надеемся, что когда-нибудь её систематические нарушения прекратятся.
4 ноября 1950 года в Риме была подписана конвенция, породившая Совет Европы и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
И хотя Россия ратифицировала конвенцию в марте 1998 года, закреплённые в ней права регулярно нарушаются, к примеру, право на свободу собраний, слова и справедливое судебное разбирательство. Часто граждане даже вынуждены искать справедливость в Европейском суде по правам человека.
К сожалению, далеко не все решения ЕСПЧ в нашей стране в итоге исполняются (особенно если вы Алексей Навальный), однако, благодаря конвенции в нашей стране, например, введён мораторий на смертную казнь.
Увы, этого лишены наши соседи из Беларуси. Когда наша страна ратифицировала конвенцию, у них уже был установлен режим Лукашенко, в котором нет места правам человека.
Европейская конвенция по правам человека — это один из важнейших документов нашего времени. Мы надеемся, что когда-нибудь её систематические нарушения прекратятся.
2021 November 05

О пытках над Навальным в колонии
Журналист «Дождя»* Константин Гольденцвайг пообщался с бывшими заключёнными Покровской колонии № 2, где отбывает наказание Алексей Навальный. Опубликованный материал не может оставить равнодушным.
По рассказам заключённых, политик подвергается систематическому давлению в жёсткой форме. Руководство ИК-2 пытается всеми силами подавить Алексея, используя методы психологического давления, так как причинение физического вреда Навальному спровоцирует СМИ.
Алексей находится в полной изоляции, другим заключённым запрещено с ним контактировать. Их даже насильно заставили посмотреть фильм о якобы гомосексуальной ориентации Навального, чтобы спровоцировать агрессию. И это далеко не всё, что позволяет себе руководство ИК-2.
Если у вас и были иллюзии касательно работы ФСИН, то после публикации материалов Gulagu.net и расследования «Дождя»* у вас их не должно остаться.
Мы предлагаем вам сделать две вещи:
— Напишите Алексею письмо со словами поддержки! Сделать это можно через «Почту Росии», ФСИН-письмо или «РосУзник».
— В разработке находится нормативно-правовой акт, который позволит нарушать права заключённых и может стать очередным инструментом давления на них. О том, как этому воспрепятствовать, мы написали здесь.
*выполняет в России функцию иноагента — закон требует, чтобы мы написали об этом
Журналист «Дождя»* Константин Гольденцвайг пообщался с бывшими заключёнными Покровской колонии № 2, где отбывает наказание Алексей Навальный. Опубликованный материал не может оставить равнодушным.
По рассказам заключённых, политик подвергается систематическому давлению в жёсткой форме. Руководство ИК-2 пытается всеми силами подавить Алексея, используя методы психологического давления, так как причинение физического вреда Навальному спровоцирует СМИ.
Алексей находится в полной изоляции, другим заключённым запрещено с ним контактировать. Их даже насильно заставили посмотреть фильм о якобы гомосексуальной ориентации Навального, чтобы спровоцировать агрессию. И это далеко не всё, что позволяет себе руководство ИК-2.
Если у вас и были иллюзии касательно работы ФСИН, то после публикации материалов Gulagu.net и расследования «Дождя»* у вас их не должно остаться.
Мы предлагаем вам сделать две вещи:
— Напишите Алексею письмо со словами поддержки! Сделать это можно через «Почту Росии», ФСИН-письмо или «РосУзник».
— В разработке находится нормативно-правовой акт, который позволит нарушать права заключённых и может стать очередным инструментом давления на них. О том, как этому воспрепятствовать, мы написали здесь.
*выполняет в России функцию иноагента — закон требует, чтобы мы написали об этом
2021 November 09

Петербургский суд прекратил дело против Екатерины Гончаровой
Ранее мы уже писали о том, что на региональную координаторку нашего отделения Екатерину Гончарову завели дело по статье 8.6.1 КоАП из-за локальных ограничений в период коронавируса, позже это дело переквалифицировали в 20.2 ч.2 КоАП — организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка.
После четырех заседаний Дзержинский районный суд пришёл к выводу, что в действиях Кати не было состава правонарушения.
Напомним, Катя была задержана во время одиночного протеста против закона об иноагентах. Подписать петицию за его отмену можно здесь.
Ранее мы уже писали о том, что на региональную координаторку нашего отделения Екатерину Гончарову завели дело по статье 8.6.1 КоАП из-за локальных ограничений в период коронавируса, позже это дело переквалифицировали в 20.2 ч.2 КоАП — организация массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка.
После четырех заседаний Дзержинский районный суд пришёл к выводу, что в действиях Кати не было состава правонарушения.
Напомним, Катя была задержана во время одиночного протеста против закона об иноагентах. Подписать петицию за его отмену можно здесь.

Ночь обысков
В ночь на 9 ноября прошла череда обысков у сторонников и экс-сотрудников структур Навального в Кузбассе и Башкирии.
В том числе обыск прошёл и у нашего активиста из Новокузнецка Фёдора Регузова. На данный момент он находится в статусе свидетеля под подпиской о неразглашении.
Всего это коснулось тринадцати человек из Уфы, Новокузнецка и Кемерова. Также в Уфе на 48 часов была задержана экс-координаторка штаба Навального* Лилия Чанышева, её подозревают в создании экстремистского сообщества.
По данным адвоката Александра Деревянкина, все обыски являются частью одного дела, предположительно связанного с деятельностью структур Навального.
*Штабы Навального признаны судом экстремистской организацией, закон обязывает нас указать это
В ночь на 9 ноября прошла череда обысков у сторонников и экс-сотрудников структур Навального в Кузбассе и Башкирии.
В том числе обыск прошёл и у нашего активиста из Новокузнецка Фёдора Регузова. На данный момент он находится в статусе свидетеля под подпиской о неразглашении.
Всего это коснулось тринадцати человек из Уфы, Новокузнецка и Кемерова. Также в Уфе на 48 часов была задержана экс-координаторка штаба Навального* Лилия Чанышева, её подозревают в создании экстремистского сообщества.
По данным адвоката Александра Деревянкина, все обыски являются частью одного дела, предположительно связанного с деятельностью структур Навального.
*Штабы Навального признаны судом экстремистской организацией, закон обязывает нас указать это

Дело против Александра Кашеварова прекращено
Мы много раз писали о том, что в отношении нашего федерального координатора Александра Кашеварова заведено уголовное дело по «дадинской» статье. Напомним, данная статья — это уголовное обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. «Дадинка» известна как серьёзный инструмент преследования активистов.
В мае у Александра проходили обыски, сотрудники полиции изъяли у челябинского активиста флаг «Весны» и даже флешку с домашними заданиями. Мы создали петицию, чтобы добиться отмены преследования, а в это время в Челябинске вызывали на допрос всех, кто занимается активизмом в регионе или просто знаком с Александром. В сентябре он вынужденно эмигрировал, так как беспокоился за свою свободу.
Мы рады сообщить, что дело в отношении Саши прекращено!
Защитой Александра занимался адвокат «Апологии протеста» Андрей Лепехин, мы благодарим его за помощь!
Мы много раз писали о том, что в отношении нашего федерального координатора Александра Кашеварова заведено уголовное дело по «дадинской» статье. Напомним, данная статья — это уголовное обвинение в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. «Дадинка» известна как серьёзный инструмент преследования активистов.
В мае у Александра проходили обыски, сотрудники полиции изъяли у челябинского активиста флаг «Весны» и даже флешку с домашними заданиями. Мы создали петицию, чтобы добиться отмены преследования, а в это время в Челябинске вызывали на допрос всех, кто занимается активизмом в регионе или просто знаком с Александром. В сентябре он вынужденно эмигрировал, так как беспокоился за свою свободу.
Мы рады сообщить, что дело в отношении Саши прекращено!
Защитой Александра занимался адвокат «Апологии протеста» Андрей Лепехин, мы благодарим его за помощь!

Бывшая участница «Весны» Елена Скворцова признана иноагентом
Вчера неожиданно для всех о себе напомнил один из-главных ньюсмейкеров нашей страны — Министерство юстиции. В новый список иностранных агентов попали бывшие сотрудники прекратившей свою деятельность «Команды 29», занимающейся правозащитой. Помимо руководства и адвокатов «Команды» иноагентом признана бывшая активистка петербургской «Весны» Елена Скворцова*.
Лена* не первый раз страдает за свою политическую и гражданскую позицию, прошлой весной её отчислили из СпбГУ. Она знакома многим активистам из Петербурга и других городов как постоянный и бессменный организатор вечера писем политзаключённым.
От лица движения выражаем поддержку Лене*, «Команде 29» и всем другим иноагентам. Мы считаем, что закон должен быть отменён, а также просим всех наших подписчиков подписать петицию против него.
*выполняет в России функцию иноагента — закон требует, чтобы мы написали об этом
Вчера неожиданно для всех о себе напомнил один из-главных ньюсмейкеров нашей страны — Министерство юстиции. В новый список иностранных агентов попали бывшие сотрудники прекратившей свою деятельность «Команды 29», занимающейся правозащитой. Помимо руководства и адвокатов «Команды» иноагентом признана бывшая активистка петербургской «Весны» Елена Скворцова*.
Лена* не первый раз страдает за свою политическую и гражданскую позицию, прошлой весной её отчислили из СпбГУ. Она знакома многим активистам из Петербурга и других городов как постоянный и бессменный организатор вечера писем политзаключённым.
От лица движения выражаем поддержку Лене*, «Команде 29» и всем другим иноагентам. Мы считаем, что закон должен быть отменён, а также просим всех наших подписчиков подписать петицию против него.
*выполняет в России функцию иноагента — закон требует, чтобы мы написали об этом